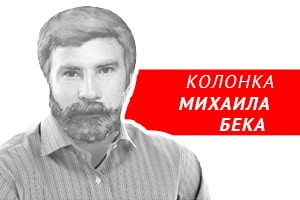Коротко планы Минфина описываются одним словом – укрупнение. Как это уже происходит с российским здравоохранением. Предварительные итоги реформирования, проанализированные Счетной палатой, особого оптимизма не внушают. Да и откуда ему было взяться, если, по свидетельству аудиторов, «какие-либо рекомендации в части порядка проведения оптимизации не разрабатывались, территориальное планирование с учетом возможных последствий не проводилось».
И вот результат. В процессе оптимизации, состоявшей из поглощения мелких лечебных заведений крупными, без больничной и поликлинической помощи по месту прописки остались жители свыше 17 тысяч населенных пунктов, а без работы – 90 тысяч медиков. Кстати, даже с финансовой точки зрения реорганизация себя не оправдала, поскольку в масштабах страны прибыток от нее составил в 2014 году всего-то 3 миллиарда 300 миллионов рублей – полпроцента от общего объема фонда оплаты труда в государственном здравоохранении.
С эффективностью и доступностью медицинской помощи вышло и того хуже. За год количество умерших в стационарах увеличилось на 3,7 процента, зато объем платных услуг вырос сразу на четверть. В общем, хотели как лучше, а получилось даже хуже, чем всегда.
Впрочем, реформаторов из Минфина это, судя по всему, ничему не научило. На очереди у них – оптимизация среднего образования, которое тоже ждут разнообразные слияния, укрупнения и упразднения. За ближайшее трехлетие, по сведениям аудиторов Счетной палаты, намечено ликвидировать 870 школ. И это несмотря на демографический прогноз Росстата, согласно которому «в 2020–2021 учебном году среднеообразовательным учреждениям потребуется на два с половиной миллиона мест больше, чем в 2012–2013-м».
В планах министерства есть объединительные новации и позаковыристей. Например, создание центров коллективного доступа, а которых учащиеся разных школ смогут по очереди осваивать современное высокотехнологическое оборудование. Вот только о том, на какие средства они будут создаваться, в пояснительной записке нет ни словечка.
Из той же серии прекраснодушных мечтаний и идея о сокращении штата преподавателей путем перевода учителей-предметников на работу сразу в нескольких учебных заведениях – по скользящему графику. Вот только невдомек правительственным финансистам, что тем самым такие «многостаночники от образования» автоматически попадут в разряд совместителей. А их-то директора школ сокращают в первую очередь.
Не минует чаша оптимизации и высшее образование. Ликвидации будут подлежать малоэффективные вузы, выявленные с помощью мониторинга, проводимого министерством образования и науки. По итогам 2014 года таковыми признаны 72 высших учебных заведения и 492 филиала. В том числе, увы, и Волжский институт строительства и технологий.
Есть, правда, категория бюджетников, которых штормовые волны обвальной оптимизации обходят, как правило, стороной. Это то самое чиновничество, которое множит свои ряды наперекор всем широковещательным заявлением о неминуемом сокращении. Чему в пору президентства удивлялся еще Дмитрий Медведев: ««Сокращаешь, проходит полгода – глядь, опять та же самая штатная численность. Даже в этом плане периодические сокращения необходимы, для того чтобы просто численность не росла сверх меры»,
Остается только понять величину этой самой меры. На момент распада СССР на 10 тысяч его граждан приходилось 73 чиновника. В современной России этот показатель бюрократизации общества почти на треть выше – 108 человек. По последним данным Росстата, общая численность чиновников – около полутора миллионов. Примерно треть из них занята в органах местного самоуправления.
Российские чиновники – самая социально защищенная категория российского населения. В качестве доказательства приведу мнение директора департамента государственной службы Министерства труда РФ Дмитрия Баснака, которое цитирует газета «Коммерсантъ»: «Просто так уволить чиновника нельзя. Если должность сокращается и орган реорганизуется, госслужащему обязаны предложить должность, соответствующую его квалификации и стажу. Каждый госорган должен обосновать, почему он уволил этого человека, если в штате есть вакансии. Если вакансий нет, сотруднику может быть предложена работа в другом госоргане и переобучение за счет работодателя. Если другая должность не предлагается, ему выплачивается четыре зарплаты, и только тогда он свободно выходит на рынок».
Стоит ли уточнять, что зарплаты госслужащих – не чета нашим. Это в РСФСР времен Советского Союза величина денежного довольствия чиновников не дотягивало 12 процентов до средней зарплаты по стране. А в наши дни средний заработок чиновников превышает ее на треть.
Поэтому не стоит и удивляться, что именно они вкупе с депутатами Госдумы первыми выразили готовность отсрочить срок своего выхода на пенсию до шестидесятипятилетнего возраста. Была бы их воля – и до скончания века согласились бы.
Читайте «Волжскую правду», где вам удобно: Новости, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту vlzpravda@mail.ru